Веркор - Избранное [Молчание моря. Люди или животные? Сильва. Плот "Медузы"]
Поскольку это и в самом деле было фатально, нерешительность Сильвы с каждым днем принимала все большие размеры. Любое явление вызывало у нее острое, пристальное внимание. И в большинстве случаев повторялась ситуация с зайцем: первый инстинктивный порыв тотчас пресекался ею, словно она проверяла, действительно ли ей хотелось именно этого. Конечно, разрешить свои сомнения она не умела и все чаще погружалась в какую-то мечтательную апатию. Но если у меня это состояние вызывало некоторое беспокойство, то Нэнни, напротив, была на верху блаженства: наконец-то, говорила она, ей удалось попасть на знакомую территорию воспитание отсталых детей. Тот же внезапный интерес, который Сильва проявляла теперь к окружающим ее живым существам и предметам, она стала выказывать, пусть, как правило, неосознанно, и к объяснениям Нэнни. Она ничего не говорила, но какое-то время спустя мы констатировали, что главное она запомнила. Нэнни научила ее считать на пальцах: Сильва наблюдала, как та разгибает их ей по мере счета, и если на первых порах мы просили ее за десертом принести три яблока, а она приносила два или пять, как выйдет, то потом, в один прекрасный день, она принесла требуемое количество и больше ни разу не ошиблась, какой бы ни была названная цифра.
Я рассказывал уже, как долго мы боролись с ее неприятием изображений, по крайней мере тех, что представляли живые существа; потом она как будто узнала на картинке неподвижную собаку — и соотнесла ее с мертвым Бароном. Это откровение потрясло ее со странной силой (вопли, всхлипывания и выкрикиваемое сквозь рыдания имя пса), но в то же время открыло в этом мозгу, полном еще запертых дверей, широкий путь в область, богатую многими дальнейшими перспективами: уже назавтра она действительно увидела и узнала изображения и, разглядывая их, вскрикивала от восторга. Нэнни вручила ей карандаш и бумагу и научила пользоваться ими. Сперва ее ученица, естественно, лишь марала бумагу, подобно совсем маленьким детям, — чиркая карандашом во все стороны и без разбора; но уже один тот факт, что она пыталась рисовать, был весьма примечателен; когда у нее из-под карандаша случайно выходила округлая линия, она восклицала: «Яблоко!» — и смеялась. Вообще Сильва смеялась все чаще и чаще, подтверждая этим мою скромную гипотезу: именно смерть, я был уверен, побудила ее к смеху. Ибо если из всех живых существ одни только люди знают, что смерть есть всеобщий удел, то одни лишь люди и умеют смеяться, и в этом их спасение. Атавистический страх смерти, неосознаваемый и глубоко запрятанный в душе, сидит в нас с самого детства, и когда что-нибудь, хоть на миг, освобождает нас от него, то внезапно нас охватывает такое ликование, что все тело содрогается в «грубых спазмах». Мы ищем в смехе, в комических ситуациях миг передышки, короткий миг органического забвения нашего человеческого состояния: в тот миг, когда нас сотрясает смех, мы бессмертны. Сильва всегда смеялась после испуга. И еще — но далеко не всегда — видя неожиданный результат каких-нибудь своих действий. Нарисовать, вовсе не стремясь к этому, яблоко явилось одним из таких результатов. И, чтобы продлить удовольствие, она начала рисовать уже целенаправленно. Потом она узнала от Нэнни, что в кружке можно изобразить глаза, нос, рот, и принялась с детским усердием рисовать «человечков». Всегда лежащих.
— Почему они лежат? — спросила ее наконец заинтересованная Нэнни.
— Бонни больше не играть, — ответила моя лисица и со смехом бросилась мне на шею, целуя, покусывая и демонстративно радуясь тому, что я еще жив.
Я рассказываю об этом не для того, чтобы описать педагогические приемы миссис Бамли. Они оказались превосходны, быстры и эффективны. Вскоре Сильва научилась различать не только картинки, но и звуки: «Прослушайте, глядя на гласные, прослушайте, глядя на согласные, прослушайте звукосочетания». Когда она поняла, что крик, слово можно запечатлеть на бумаге, перед нею открылись двери в новую область область абстрактных идей. Ей становились доступны такие понятия, как «время», «пространство». И теперь слова «через много-много времени» (которые прежде способны были только смягчить ужасное открытие, что смерть Барона — это и моя, и ее смерть, и эта смерть делала нас в ее мозгу, еще пока лисьем, еще пока незнакомом с понятием длительности, одновременно и живыми, и мертвыми) стали ей доступны, и мрачная перспектива смерти отодвинулась настолько далеко, что она перестала о ней и думать.
В формирующемся сознании Сильвы от нее теперь осталась неизгладимая мета, полуосознаваемый отпечаток, но отпечаток этот требовал, чтобы она непрерывно двигалась вперед так в самом сердце корабля, невидимая и неслышимая для всех, тайно работает машина.
XXX
Есть ли необходимость продолжать? Открывая эту тетрадь, я хотел написать историю одной метаморфозы. Я сделал это. Хорошие писатели уверяют, что род людской это результат раскола: фрагмент взбунтовавшейся природы, тщетно борющейся с самого своего начала за то, чтобы сорвать маску с тайны, скрывающей смысл бытия. И моя маленькая лисица, сделав шаг, после которого путь назад ей был отрезан, полностью перешла в стан раскольников. Что в ней оставалось от прежнего состояния? Слабое воспоминание, и только. Теперь она очеловечилась до глубины души. Конечно, нам предстояло еще воспитывать и воспитывать ее, в обоих смыслах этого слова, но это уже было за пределами самого факта ее перерождения. Метаморфоза свершилась.
Так о чем же еще рассказывать — разве только о тех успехах, которые делает ребенок, находясь в руках добрых наставников. Доктор Салливен давно предупредил меня об этом: «Она начнет задавать вопросы, и тогда только держитесь!» Сильва не сразу приступила к вопросам — для этою ей понадобился более мощный стимул, чем узнавание себя в зеркале. Но теперь — о боже! Каждый из нас имел дело с детьми, которые мучат вас вопросами обо всем и ни о чем. Но это просто ангелы скромности по сравнению с Сильвой в тот период, да еще с той отягчающей разницей, что у нее-то был мозг взрослого человека и ее не удавалось провести теми неопределенными ответами, которыми вроде бы довольствуются дети. Итак, ее вопросы были весьма щекотливы и более чем неразрешимы: «Почему живут? Почему умирают?» Смерть бедняги Барона не переставала смутно руководить направлением ее мышления, которое, в общем-то, и вылупилось из своей скорлупы под воздействием этого шока. Сильва желала узнать не больше и не меньше как начало и конец всех вещей.
Ибо всякая вещь, которая, в бытность ее лисицей по развитию, не внушала ей ни интереса, ни беспокойства, нынче осознавалась ею с боязливой остротой: «Почему день, почему ночь? Что такое солнце? А луна? А звезды? Небо — это где кончается?» И наступил день, когда она спросила: «А почему существует все это?»
Откровенно говоря, в тот момент такой определенный вопрос поразил меня скорее по форме, чем по сути: «существует» относилось, конечно, к самой Сильве, но и последовавшее за ним «все это» явно затрагивало также и ее. «Существует» и «все это», Сильва и вселенная, оказались, таким образом, неразличимо спутанными у нее в голове — раздел еще не произошел окончательно. Впрочем, и тон вопроса был слишком недоуменным — то начался экскурс в неизведанный край, полный опасных загадок, пугающих горизонтов; недоумение это еще не было волнением, первой дрожью нетерпения, предчувствием взрыва: Сильва даже и не подозревала (да и как она могла бы заподозрить?), что на свой вопрос она никогда, никогда не получит ответа.
Для того чтобы последние связи с ее прежней природой были наконец грубо оборваны, а раскол безжалостно совершен, потребовалось, чтобы она услышала мое откровенное признание: «Бедная моя малышка, я бы очень хотел тебе объяснить, почему мы существуем, но, к, несчастью, никто этого не знает»; потребовалось повторить ей это не раз и не два, но десять раз подряд, ибо она упорно отказывалась поверить, невзирая на мои уточнения и разъяснения, что на такой простой и очевидный вопрос не существует ответа, и долго считала, что я по каким-то непонятным причинам скрываю от нее правду. И я помню, ах, как ясно помню ее остренькое изумленное личико, настоящую лисью мордочку, вспыхнувшую недоверчивым гневом, глаза, засверкавшие от за кипевшего раздражения; я помню, с какой яростью она, топнув наконец ногой, бросила мне как обвинение, со сдержанным рыданием в голосе:
— Ну так что же, совсем ничего не знают?
И я вынужден был признать, что люди и в самом деле не знают ничего, живут и умирают, так и не проникнув в главную, тайну бытия, и что как раз в том и состоит величие науки, которая стремится проникнуть… Тут Сильва прервала меня еще яростнее:
— Как? Какое величие? Почему надо искать? Раз живут, должны знать! Почему не знают? Нарочно? Нам мешают?
Я молчал, пораженный и слегка пристыженный. Ибо мало сказать, что проницательность этого последнего вопроса поразила меня — она открыла мне глаза. Я не принадлежу к тем людям, которые сверх меры увлекаются метафизикой; я всегда принимал вещи такими, какие они есть, подходя к ним вполне практически, как и подобает сельскому жителю. И теперь я говорил себе, что странное наблюдение, сделанное моей человекообразной лисичкой, никогда не приходило мне в голову, несмотря на полную его очевидность. И думал: много ли найдется людей, способных сформулировать эту мысль столь ясно, да и многие ли ученые обратят внимание на то, что содержалось в ней примитивного и одновременно фундаментального. В самом деле, «почему не знают?» и «почему нам мешают?» Тысяча чертей, это изумление, этот гнев Сильвы — не были ли они основой всего всего, что составляет благородство человеческого разума? Но человек заплутал среди деревьев бесчисленных вопросов, не видя из-за них леса главного вопроса, объединяющего их все: почему, с какой целью наш мозг был создан столь законченным, что он способен все понять, но столь искалеченным, что ничего не знает — ни того, что есть он сам, ни тела, которым он управляет, ни той вселенной, которая все порождает. И именно потому, что мозг моей лисицы был девственно чист и у нее не было возможности еще в детстве заблудиться среди деревьев, она и угодила сразу в лес этого «почему?», о котором люди никогда не думают, и это-то и есть самая поразительная и необъяснимая непоследовательность человеческого разума.


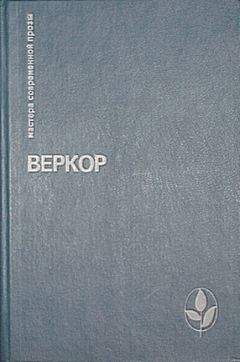
![Веркор - Люди или животные? [Естественные животные]](/uploads/posts/books/117740/117740.jpg)